-
14 Август 201912 августа 2019 года прошел первый День памяти Василия Пескова в Голубом зале "Комсомольской правды"Собрались друзья, коллеги, проклонники легендарного журналиста. Среди них члены клуба Владимир Губарев, ОГеннадий Бочаров, Леонид Репин, Евгений Черных, Александр Гамов, Владимир Веленгурин, Людмила Семина, Людмила Кривомазова. Во встрече участвовали также Валентин Ос ипов, первоиздатель книги "Шаги по росе", Наталья анилина, сподвижник Пескова в спасении заповедной системы России, Сергей Жданов, фотохудожник из Оренбурга, создатель портретной галереи Василия Пескова, Татьяна Старченко, жена писателя Николая Старченко, сопутешественника Василия Михайловича в его поездках по стране. В организации Дня памяти большое участие приняли директор по продвижению газеты "Комсомольская правда" Наталья Жданова-Назаренко и начальник АХО Анна Гмати.
-
07 Апрель 2018Он посвящен предстоящему 95-летию газеты, Открывает его исторический очерк Людмилы Семиной о легендах Шестого этажа
- Все новости
НАТАЛИЯ МОРЖИНА. ГУБАМИ ТРОНУЛА МОЛИТВУ. СТИХИ
В красноярском альманахе НОВЫЙ ЕНИСЕЙСКИЙ ЛИТЕРАТОР (№ 1, 2016) опубликована очередная подборка стихов члена Клуба, поэта и журналиста Наталии Моржиной. Недавно мы поздравляли ее с выходом поэтического сборника "Парад планет". И вот - продолжение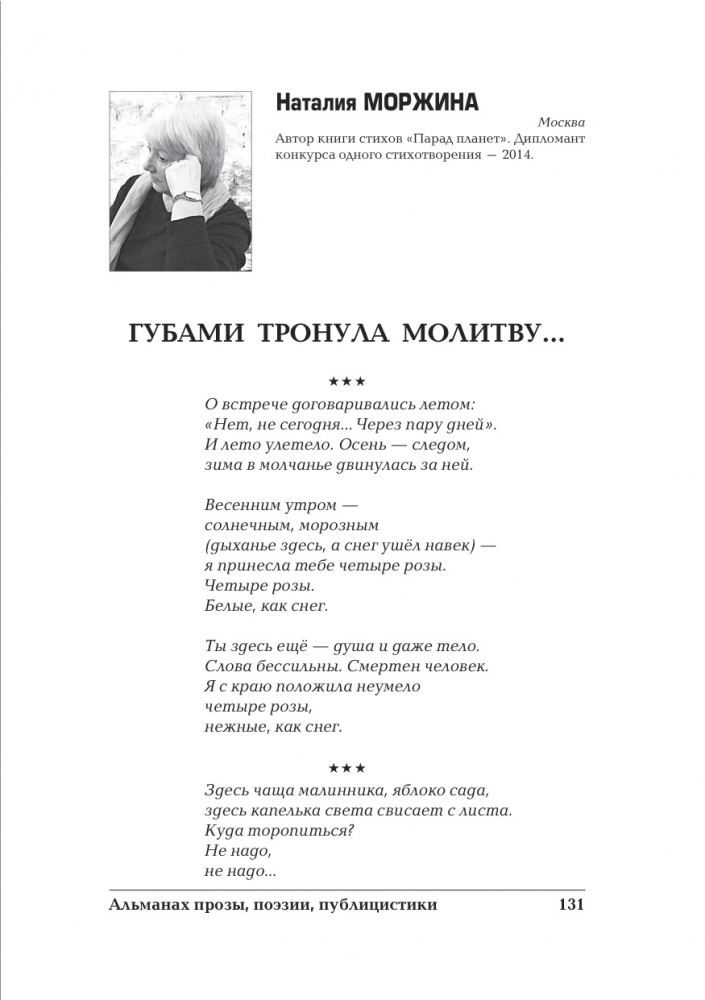
***
О встрече договаривались летом:
«Нет, не сегодня... Через пару дней».
И лето улетело. Осень — следом,
зима в молчанье двинулась за ней.
Весенним утром — солнечным, морозным
(дыханье здесь, а снег ушёл навек) —
я принесла тебе четыре розы.
Четыре розы.
Белые, как снег.
Ты здесь ещё — душа и даже тело.
Слова бессильны. Смертен человек.
Я с краю положила неумело
четыре розы,
нежные, как снег.
***
Здесь чаща малинника, яблоко сада,
здесь капелька света свисает с листа.
Куда торопиться?
Не надо,
не надо...
Чего суетиться, коль жизнь непроста?
Травинка в губах на манер сигареты,
за неимением лучших манер.
Прожито, проето, про это пропето...
И заново — осень.
И морды химер.
***
Тревожимся, спешим, а надо проще бы...
Одолевая рёв машин и чад,
над привокзальной бестолочью площади,
как над Кижами,
чаечки кричат.
Куда спешишь, упрямое столетие?
Куда тебе — на запад, на восток?
Но ничего столетье не ответило,
перебирая миллиардом ног.
Опасность в том, что на высокой скорости
сливаются сто лиц твоих столиц.
Притормози сейчас, иначе вскорости —
по барабану всё, хоть оголись.
А чайки приутихнут на мгновение —
и снова поднимают тарарам.
У них свои, конечно, треволнения
и суета, неведомая нам.
***
В лесу я становлюсь собой — другою:
мысли отпущены, чутьё обострено.
Валежина не хрустнет под ногою.
Я — слух один
и зрение одно.
Могу сквозь чащу тихо просочиться,
не потревожив слаженных ветвей,
мха не примяв, не оскорбив грибницу,
не испугав встревоженную птицу,
а только взглядом обменявшись с ней.
Одежда тяжела и неуклюжа.
То космонавт я в ней,
то водолаз...
А если выскользнуть, как гибкий ужик,
из всех доспехов — добычи для глаз?..
И на полянке замереть, не зная,
но кожей ощутив, как дышит день,
что промелькнуло там: душа лесная
иль самолёта ангельская тень.
***
Уткнулась лодочка в мостки.
Шагов десяток до крылечка.
Дверь поддалась. И — тишь. Ни свечки
и ни лампад. Шаги легки.
Здесь только древний полумрак
с настоянным древесным духом.
Здесь хорошо: прохладно, сухо,
надёжно и спокойно так.
Губами тронула молитву —
ту, что начало всех начал,
а голос (мается ль, болит ли?) —
легко и полно прозвучал.
Мой тихий неказистый голос,
не узнаю тебя в себе.
Чем ты наполнен, кем ты послан,
откуда взялся в синеве?
Мой голос — брешь моя и слабость,
опять гортань воспалена,
тебе и песенка не в радость:
фальшива и глуха она.
Мой голос, мёртвый от волненья,
пересыхающий от слёз,
трещиноватый от куренья,
как спилы старые берёз,
мой голос, бедный от рожденья
до погруженья в седину, —
и это он, мой голос, пеньем
уплыл, светлея, в вышину!..
От нижней тёмной «до» подводной —
прозрачной лесенкою гамм —
до верхней, птичьей, непокорной
«до» серебристых амальгам!
Туда, под купол деревянный,
наверх, в затёсы топором,
что двести лет стоят упрямо
под ветром, снегом и дождём...
Но как? Откуда это пенье —
из неразумий и забот
сквозь приоткрытый в удивленье
неприспособленный мой рот?
И как ты отыскал, мой голос,
в забитой памяти больной
мелодию — пшеничный колос,
связь между небом и землёй?
От изумленья умолкая,
не понимая, в чём секрет,
я думала: кто ж я такая,
что прислан мне певучий свет?..
Ведь это дерево, не камень!
Храмы давно разорены.
Какими ж дивными руками
когда-то вы возведены...
Кто выбрал это место —
остров меж стынью северных небес
и сталью вод? И кто же создал
древесный храм?
Неужто — Лес
взрастил его, как ростит тайны,
грибы, деревья и цветы,
онежской влагою питая
тугие корни, что плутают
среди подземной темноты?
Карелия, Кижские шхеры
***
Отойди, любопытный,
настырный,— уйди, муравей,
и не изображай
здесь чудес насекомой отваги,
затесавшись на поле
помятой тетрадки моей,
чтобы тоже оставить
свой след на полоске бумаги.
Мы с тобою поделим
корявую плоскость стола,
тот горбыль, посеревший
под солнцем, дождями и ветром.
Так, распилена вдоль,
ель могучая кротко легла,
к небесам и ко мне
обращаясь оструганным верхом.
За длиннющим столом
пировали не раз рыбаки.
Стоек чаек помёт
и черники чернильные пятна,
что белеют-чернеют
на серой скрижали доски:
это памятки дней —
отошедших, иных, невозвратных...
А сегодня тетрадь забелела
на этой доске,
и моё бормотанье
с прерывистым чаячьим криком
здесь соседствует мирно —
и в хохоте, жути, тоске
заколдованных птиц,
и в покое Онеги великом...
Карелия, Большой Клименецкий остров
Назад к списку
